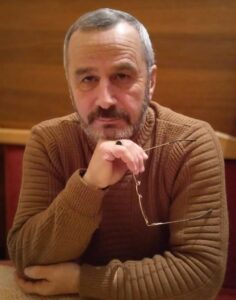В далекие-далекие времена мудрец сказал: «Бесконечно долго можно смотреть на две вещи: на горящий огонь и текущую воду». Если взять во внимание, что водоснабжение в жилище человека появилось не так давно, то огонь сопровождал его со времен пещерных убежищ. Со временем люди придумали для огня множество приспособлений. В этом длинном ряду, пожалуй, самым изящным и роскошным был и остается – камин.
Именно помня об этом, в начале своей профессиональной журналистской деятельности, под рубрикой «Двое у камина», я вел беседы со своими визави на самые животрепещущие темы нашего Бытия. В начале в «Халкъан Аз» (предшественница нынешней РОПГ «Нийсо»), а затем в другом издании — «Своя газета». Издавали мы ее с ныне покойным Вахарсултаном–хаджи Исмаиловым и журналистом Камилем Хункеровым.
Надо отметить, что интервью эти воспринимались с большим интересом и живо обсуждались. Значит, их читали, если были критика и отзывы.
Мысль возобновить свою рубрику меня никогда не покидала. Жаль! Катастрофически не хватает времени. С кем говорить, конечно, есть.
Теперь, в порядке информации, о самих каминах. Впервые они, говорят, как и многое другое, появились в Риме. Как сейчас принято считать, что все производится в Китае и, естественно, привозится оттуда.
В Россию камин, как и многое другое, привез Петр 1. И не каждый имел право иметь его у себя в доме. Такое разрешение давалось самим Императором боярам и дворянам, т.е. знатным и состоятельным в обществе людям полагалась такая роскошь.
Как ни парадоксально, но дальнейшему развитию каминов помешала ВОР – Великая Октябрьская революция (?!) 1917 года. Камины, в отличие от печей, большевиками были признаны предметом буржуазной роскоши и подлежали сохранению лишь в качестве элемента памятников архитектуры.
Сейчас, правда, все это уже в прошлом. Считаю вполне необходимым вернуть на страницы нашей газеты свое детище — рубрику «Двое у камина».
И, что самое удивительное, говорить мы будем обо всем, кроме политики. И еще. Вопросы преднамеренно остаются одни и те же, чтобы читатель имел возможность разузнать мнение самых разных людей на поднимаемые проблемы о жизни и ее сути.
Сегодня моим собеседником станет Гамид Абдуллаевич Магомедов – заведующий кафедрой печатных СМИ Дагестанского государственного университета. Ветеран педагогического труда. Прекрасный семьянин. Заботливый отец и дедушка.
— Английская пословица гласит, что глупцы строят дома, а мудрецы их покупают. Что бы Вы (или ты, как удобно. Впрочем, у нас, у чеченцев, нет обращения на «Вы») сказали по этому поводу?
Принято считать, что каждый уважающий себя человек должен построить дом, посадить дерево, соорудить колодец, воспитать сына…
— Английская пословица действительно отражает западный прагматичный взгляд: зачем тратить время и силы на строительство, если можно купить готовое? Это логика рынка, где время, деньги, а опыт и ресурсы можно оптимизировать.
У дагестанцев, как и у многих народов Кавказа, другое понимание. Дом — не просто жильё, а символ корней, труда и наследия. Построить дом — значит вложить в него душу, обеспечить будущее семьи. Посадить дерево — оставить след на земле. Воспитать сына — продолжить род и традиции.
Так что мудрость — не в том, чтобы просто купить, а в том, чтобы создать нечто большее, чем стены и крыша. Дом, построенный своими руками, — это история, переданная детям. Дерево, посаженное предками, — память. Колодец — садака для будущих поколений.
Можно сказать, что английская пословица — про эффективность, а ваша традиция — про смысл. Истина, как всегда, где-то посередине: мудрец не просто покупает или строит, а делает выбор осознанно, исходя из ценностей и обстоятельств.
Как говорят в моем родном Сергокалинском районе: «Дом, где есть гостеприимство, стоит выше дворцов, где нет души».
По поводу обращения, скажу, что у дагестанцев тоже нет обращения на «вы». У нас принято обращаться на «ты» даже к старшим — но при этом сохранять уважение в интонации, жестах, поступках. У горцев уважение проявляется не в местоимениях, а в отношении: тон, слова, поступки. Если человек говорит «ты» с почтением — это честнее, чем пустое «вы» без души.
Как говорил один мудрец: «Достоинство не в том, как к тебе обращаются, а в том, как ты себя несёшь».
— Домашний очаг должен быть не местопребыванием, а местом, куда мы всегда возвращаемся. И где находим то, что ищем, странствуя по миру (тепло, уют, понимание, поддержку, сочувствие, сострадание).
— Ты абсолютно прав, Умар. Эти слова передают саму суть того, каким должен быть настоящий дом — не просто крышей над головой, а духовным центром жизни.
Как у чеченцев говорят: «Цlийнан корта — кlентан йуьхь» («Домашний очаг — опора мужчины»). Это место, где путник смывает усталость дорог, где дети учатся мудрости предков, где даже в самые холодные времена сердце остаётся тёплым.
Не удивляйся моему чеченскому языку. Я пять лет сеял разумное, доброе, вечное в Чеченском государственном университете. И самые добрые воспоминания у меня остались от работы с чеченской молодежью.
Странствуя по миру, человек ищет многое — но в конце пути понимает, что всё это время искал лишь то, что оставил в родном очаге. И хорошо, если, вернувшись, он находит это снова.
Как говорится в одной восточной притче: «Можно построить дом из золота, но, если в нём нет нравственности — это всего лишь пещера».
Дом — это не «где», а «зачем».
— Итак, говорят, что жизнь наша – это театр. В классическом понимании он-то начинается с вешалки. А с чего начинался Ваш жизненный театр, т. е жизненный путь?
(Здесь ответ–размышление. Коротко о себе: родителях, семье, друзьях).
— Моей «вешалкой» была учеба, учеба и еще раз учеба. Многим я обязан учителям Урахинской сельской школы. Одно из первых светских учебных заведений в Дагестане, которой в этом году исполнилось 111 лет. Первым учителем школы был Гасанов Магомед, который впоследствии стал главным редактором первой даргинской газеты «Автономный Дагестан». После окончания средней школы поменял несколько факультетов, искал себя в профессии. Легко поступал, легко бросал, пока не пришел в журналистику. Защищался по истории, позже получил диплом юриста в европейском вузе.
Все трое сыновей пошли по моим стопам. Работают в федеральных медиа: двое по Северному Кавказу, один в Москве.
Конечно, друзья, окружение влияют на мировоззрение. Говорят, мы — это среднее из пяти людей, с которыми проводим больше всего времени. Друзья становятся нашим зеркалом: в их присутствии мы лучше понимаем себя, свои ценности, а иногда и свои слабости.
Некоторые друзья приходят в нашу жизнь на время, как герои эпизодических ролей — помогают пережить трудный период, разделяют радость, а потом исчезают. Другие остаются на десятилетия, даже если вы редко видитесь. И те, и другие ценны. Вообще, в жизни важен любой опыт.
Журналистика – не только сбор и распространение информации. Это жизнь. Мы готовим не статистов, а формируем личности. Я часто говорю студентам, если жизнь подставляет подножку — не просто падай, а используй этот импульс, чтобы перепрыгнуть через препятствие и оказаться впереди.
— У кого есть друзья, говорят, нет друга… (Ваша точка зрения. Мысли вслух. Рассуждения. Примеры).
— Друзей много не бывает. У человека, твердящего, что у него много друзей, на практике нет ни одного друга. Другом можно назвать того, кому ты доверяешь, с кем проводишь много времени, кто знает тебя настоящего и принимает таким. Остальные «друзья» — это другая категория людей, которая бывает с тобой, когда ты «на коне».
Есть и другая сторона, люди часто идеализируют дружбу, ищут «того самого» совершенного друга — но в погоне за идеалом могут не замечать тех, кто уже рядом.
— Друг (антоним: враг, недруг, противник), если вдруг оказался у власти, бытует мнение, что он уже потерян (примеры).
— Власть требует жёстких решений, которые могут идти вразрез с личными отношениями. Раньше общались на равных, но теперь между вами — статусная пропасть. Даже если друг старается её не создавать, окружающие будут её подчёркивать.
Сенека говорил, что власть — это проверка дружбы. Ты узнаёшь, кто твой друг, только когда сам окажешься в беде.
К сожалению, жизнь показывает, что власть практически всегда становится идентичностью друга и он лишается критического мышления. А мы теряем друзей. Исключение – Загир Арухов, Азнаур Аджиев, Умаросман Гаджиев, которого не стало в июле этого года. Все министры с человеческим лицом.
В мае этого года ушел из жизни мой близкий друг, известный в стране журналист, Алик Абдулгамидов. Каждый раз, когда ему предлагали высокую должность, он отказывался. Я ему говорил, чем критиковать власть, иди и попробуй что-то изменить. Он всегда говорил: «Ты хочешь потерять друга?»
— Боже упаси меня от друзей, а от врагов я и сам спасусь. (Не возникала такая внештатная ситуация в Вашей жизни? Примеры).
— Бывали такие ситуации в жизни, но со временем я понимал, что они никогда не были моими друзьями.
Примеры не хочу приводить, поскольку у таких людей все фальшивое, награды, должности, звания. Как говорит мой друг Али Камалов — пустое место. Много чести.
— Как ни печально, но когда уже за плечами определенная жизнь и годы, число друзей не увеличивается. И все потери, к сожалению, безвозвратны (О друзьях, которых не стало, но с кем было комфортно)…
— Алик Абдулгамидов — человек редкой породы: журналист, для которого профессиональная честность была не позой, а стержнем, даже когда это оборачивалось личными жертвами.
У него был негнущийся характер. Работа на федеральном канале часто требует компромиссов, но Алик выбирал правду — даже если это означало конфликты с системой. Такие люди либо быстро «вылетают» из профессии, либо становятся легендами без громких званий.
Он никогда не боялся ехать в «горячие точки», задавать неудобные вопросы или защищать слабых.
Трагедия принципиальных людей: их преданность делу часто оплачивается близкими. Жена и дети терпели его отсутствие, давление «сверху», возможно, даже угрозы.
После Алика осталось его главное наследие — люди, которым он показал, что можно жить без фальши.
— А теперь о врагах. Ведь по их наличию (зачастую, по их величию) судят о нас в обществе и в кругу наших друзей. Самый опасный враг, говорят, — отсутствие врага. Согласны ли Вы с этим? Да и есть ли они (враги) у Вас?
— Фраза «Самый опасный враг — отсутствие врага» звучит парадоксально, но в ней скрыта глубокая психологическая и философская логика.
Во-первых, враг мобилизует, заставляет развиваться. Без внешнего вызова человек или общество рискуют совсем расслабиться.
В искусстве конфликт рождает шедевры; если все согласны — творчество застывает.
Некоторые культивируют вражду, чтобы чувствовать себя живыми, но это путь к вечной войне — с другими или с собой.
Как говорил Ницше: «Тот, кто сражается с чудовищами, должен следить, чтобы сам не стал чудовищем».
Самый опасный враг — неумение жить без врага. В молодости, когда я сталкивался с несправедливостью по отношению к себе, я думал, как бы ответить. С годами я понял, что не надо никому отвечать. Всё расставит на свои места Всевышний.
— Подводя черту, что бы Вы сказали нынешнему поколению, не в порядке назидания, а с высоты прожитых лет?
— Современной молодежи я бы пожелал баланса — между смелостью и осмотрительностью, между традициями и новаторством, между цифровым и реальным. Чат-боты не заменят рукопожатий, взглядов «глаза в глаза» и дружбы, проверенной годами. Мир меняется стремительно, многому нужно переучиваться. Находите время для тишины. Таким доступным мир не был никогда. Учите языки, путешествуйте, обогащайтесь знаниями и культурой разных цивилизаций.
— Если можно, пару слов о нашей газете (содержание, верстка, дизайн, рубрики, пожелания)…
— Поскольку, я не носитель чеченского языка, вкратце охарактеризую визуальную и логическую структуру газеты.
«Нийсо» издание узнаваемое, удобное для читателя и эффективное с точки зрения восприятия информации. Выстроена система колонок, модулей и полос, по которым выравнивается контент, профессиональное зонирование – разделение на рубрики, колонки, анонсы.
Важные материалы в «Нийсо» расположены в «зонах повышенного внимания». Читатель узнает газету «с первого взгляда» даже по графике.
Чёткая иерархия (заголовок — лид – текст) дает удобочитаемость. Достаточно «воздуха». Газета позволяет себе эксперименты (новые рубрики, сменные темы), но в рамках системы.
В газете строгая модульная сетка, классические шрифты с акцентом на текст. При этом соблюдается минимализм – меньше «визуального шума», больше смысла.
При всех этих положительных сторонах газеты, скажу, что я приверженец того, что национальная газета должна исключить, по крайней мере, минимизировать контент на русском языке.
С чистыми помыслами Умар Якиев, журналист