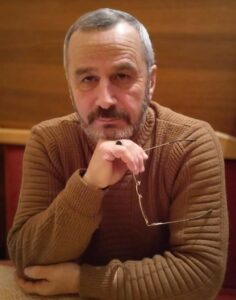В далекие далекие времена мудрец сказал: «Бесконечно долго можно смотреть на две вещи: на горящий огонь и текущую воду». Если взять во внимание, что водоснабжение в жилище человека появилось не так давно, то огонь сопровождал его со времен пещерных убежищ. Со временем люди придумали для огня множество приспособлений. В этом длинном ряду, пожалуй, самым изящным и роскошным был и остается – камин
Именно помня об этом, в начале своей профессиональной журналистской деятельности, под рубрикой: «Двое у камина» я вел беседы со своими визави на самые животрепещущие темы нашего Бытия. В начале в «Халкъан Аз» (предшественница нынешней РОПГ «Нийсо»). А затем в другом издании — «Своя газета». Издавали мы ее с ныне покойным Вахарсултаном – хаджи Исмаиловым и журналистом Камилем Хункеровым.
Надо отметить, что интервью эти воспринимались с большим интересом и живо обсуждались. Значит, их читали, если были критика и отзывы.
Мысль возобновить свою рубрику меня никогда не покидала. Жаль! Катастрофически не хватает времени. С кем говорить, конечно, есть.
Теперь, в порядке информации, о самих каминах. Впервые они, говорят, как и многое другое, появились в Риме. Как сейчас принято считать, что все производится в Китае и, естественно, привозится оттуда.
В Россию камин, как и многое другое, привез Петр 1. И не каждый имел право иметь его у себя в доме. Такое разрешение давалось самим императором: боярам и дворянам, т.е. знатным и состоятельным в обществе людям полагалась такая роскошь.
Как ни парадоксально, но дальнейшему развитию каминов помешала ВОР – Великая Октябрьская революция (?!) 1917 года. Камины, в отличие от печей, большевиками были признаны предметом буржуазной роскоши и подлежали сохранению лишь в качестве элемента памятников архитектуры.
Сейчас, правда, все это уже в прошлом. И считаю вполне необходимым вернуть на страницы нашей газеты свое детище — рубрику: «Двое у камина». И, что самое удивительное, говорить мы будем обо всем, кроме политики.
Сегодня моим собеседником станет Алюсет Межмединович Азизханов.
В биографии Алюсета Азизханова и преподавание русского языка и литературы в Джабинской средней школе Ахтынского района, и работа в Приемнике-распределителе для несовершеннолетних МВД Республики Дагестан, и ведение передач на Гостелерадиокомпании «Дагестан», и руководство региональной благотворительной общественной организацией «Набат». Алюсет Азизханов — автор более 50 публикаций и четырех книг: «Говорит Махачкала» (1997 г.), «Испытание трагедией» (2003 г.), «Уроки дружбы» (2007 г.), «На службе обществу» (2020 г.)
— Английская пословица гласит, что глупцы строят дома, а мудрецы их покупают. Что бы Вы (или Ты, как удобно. Впрочем, у нас, у чеченцев, нет обращения на «Вы») сказали бы по этому поводу?
Принято считать, что каждый уважающий себя человек должен построить дом, посадить дерево, соорудить колодец, воспитать сына…
— Сразу договоримся, Умар, что мы с тобой давно на «ты», знаем друг друга, как говорится, сто лет, и никакие иные правила этикета в данном случае на нас не распространяются.
Что же касается приведенного тобой изречения… Это усеченный его вариант. Там не хватает еще «убить змею». Иными словами, уничтожить в себе зло. На мой взгляд, не менее, а я бы сказал, наиболее важная мысль. Ибо все несправедливости мира берут свое начало со зла, которое есть в человеке.
Для меня человеком, в полной мере соответствующим такому правилу, был мой покойный отец. Село Джаба расположено высоко в горах. И это, конечно, наложило свой отпечаток на уклад нашей жизни. Чтобы выжить, нужно было трудиться всем. И старшим, и младшим. Нас было четверо братьев и сестра. Говорю «было» потому, что старшего брата не стало…. Он утонул в Чирюртовском водохранилище, где с коллегой занимался исследовательскими работами. Ему тогда не было и тридцати лет. Позади была аспирантура. Работал в научно-исследовательском институте энергетики…
…Так вот отец с самого детства приучил нас к физическому труду. Не был освобожден от этих трудов и я, хотя жил c самого детства с бабушкой по материнской линии. Отец был отменный строитель. Построил много домов, мостов….
Был у нас на приусадебном участке и свой колодец. Мне кажется, и отцу нашему он достался от моего деда. К воде в колодце вели семь-восемь ступенек вниз. Он был покрыт досками. Вода в нем была очень холодная даже в летний зной. Вокруг колодца росли деревья. Не плодовые, конечно. Это было мое любимое место для посещения. Да и участок находился в заметном отдалении от села.
Авторитет отца был непререкаем не только в роду нашем. В нем была сосредоточена мудрость, граничащая почему-то с какой-то суровостью. Отец, участник Великой Отечественной войны, много повидал на своем веку. Войну он встретил на самой границе, когда служил в армии, куда призвался в 1939 году. Оказался в самом пекле. Потерял много боевых товарищей.
В 1942 году демобилизовали по ранению. Может, потому не любил вспоминать про войну и воспитательные встречи с молодежью… Но при этом не чурался общественной работы. Ему поручали в селе самые ответственные задачи. Отец возглавлял сельский Совет старейшин. Умер он в 2002 году в Махачкале, в госпитале для ветеранов…
Так вот, возвращаясь к нашей теме…Отец мог бы, конечно, построить роскошный камин. Тем более наш добротный дом позволял. Но он сложил две печки. На одной мама готовила нам поесть. Она же, печь, грела еще две смежные комнаты. Я очень любил одну из них. Ее запахи. Возвращаясь из дальних странствий, всегда просил стелить мне в этой комнате…Здесь и сон был особенный.
Другая комната была рассчитана для гостей, которых у нас всегда было много… И здесь стояла маленькая печка. Ее затапливали в случае необходимости.
— Домашний очаг должен быть не местопребыванием, а местом, куда мы всегда возвращаемся и где находим то, что ищем, странствуя по миру (тепло, уют, понимание, поддержку, сочувствие, сострадание)…
— Я бывал во многих странах мира. В том числе в Соединенных Штатах Америки, более десяти странах Европы, из них по два раза во Франции и Австрии, которые мне понравились более всего… Не буду оригинален, если скажу, что это прекрасные страны. И все же всегда тянуло домой. В Дагестан. В Махачкалу. И, конечно, в родное село – в Джабу.
В книге моей жизни все меньше страниц.
И грусть моя не знает больше границ.
Не было слаще джабинских родников, —
Родина милее тысячи столиц.
Эти строчки родились после одной из поездок за рубеж…Конечно, с Махачкалой связано множество замечательных событий в моей жизни, воспоминаний, которые, как говорят, греют сердце. Можно сказать, вся взрослая сознательная жизнь прошла в столице республики, не считая, конечно, службы в армии за тридевять земель от Дагестана и месяцы учебы в Туле, Караганде, Москве…
В 1974 году, когда я впервые со старшим братом приехал в Махачкалу, она произвела на меня сильное впечатление действительно. Столица приятно удивил своими широкими проспектами, множеством зеленых насаждений, не свойственной большому городу тишиной…
К сожалению, сегодня она несколько другая, Хочется, чтобы город соответствовал своему статусу и не было стыдно, когда приезжают гости. Почему мы сами не вправе жить в ухоженной, чистой, уютной столице? Город действительно должен соответствовать таким критериям. К сожалению, все разговоры на эту тему остаются лишь благими пожеланиями…Хоть и обидно, понимаю, что в ближайшие десятилетия мало что изменится в лучшую сторону в Махачкале…
— Итак, говорят, что жизнь наша – это театр. В классическом понимании он-то начинается с вешалки. А с чего начинался твой жизненный театр, т. е жизненный путь?
— Я выше отмечал, что с самых младенческих лет жил и рос у бабушки по линии матери. Жизнь у бабушки дарила мне не только волшебный мир сказок, но и относительную свободу. Я любил с друзьями лазить по горам, исследуя, что находится за соседней горой. Отец же не одобрял этот мой «романтизм», приземлял мои порывы познания окружающего мира все более усложнявшимися поручениями. Со временем, такие «вылазки» совсем прекратились.
Отец знал множество различных историй. Он был не только отменный строитель, но и отличный рассказчик, хотя рассказывал очень интересные истории исключительно редко. Писатели, поэты, приезжающие ежегодно на знаменитый Праздник цветов, который проводился в Чепер сув, что недалеко от нашего села, приходили в гости побеседовать с отцом.
Как правило, гостей сопровождал мой дядя, который в те годы работал вторым секретарем райкома партии. (В последующем его назначили главным редактором нашей национальной газеты «Коммунист», нынешняя «Лезги газет»). Писателей, поэтов, чьи произведения мы учили в книгах для средней школы, я воочию видел в родительском доме. И не только лезгинских авторов. Две рукописные книги отца, как дорогие реликвии, хранятся в нашей семейной библиотеке.
Далее уже была школа, вуз, служба в армии… .Мне действительно дороги все школьные учителя. Но особо хочу выделить преподавателя русского языка и литературы Курбанова Яхью муалим, директора школы. Каждый его урок превращался для меня в настоящий праздник. В те годы я начал задумываться о профессии военного журналиста. Мечта, которой не суждено было исполниться…
Вскоре после завершения учебы в институте в газете «Правда» появилась статья «Их ждут в аулах». Там было и обо мне что-то сказано. У меня было право выбора места работы, и я, в радость родителям, вернулся в родное село. Правда, спустя всего полтора года я вновь уехал в город.
… Это было начало моих будущих скитаний из одной профессии в другую. Зачастую достаточно отдаленных друг от друга. Мое познание жизни. Не по учебникам, конечно. Лучшим учебным пособием стали сами люди. Разных национальностей, профессий, возрастов, интересов.
Наибольшее впечатление на меня произвела работа на Дагестанском радио. Куда пришел, оставив работу, где мне платили ровно в два раза больше. Отцу я боялся сказать, что поменял работу в МВД, пока он сам не услышал мой голос по радио.
На работу я стал приходить, как на праздник. Здесь был удивительный коллектив. Что интересно, поиск новой работы, выполнение творческого задания и приказ о моем назначении на должность редактора вещания на русском языке занял всего…один день! Утром того дня я был у главного редактора вещания на русском языке Ивана Николаевича Глухова, к вечеру в кабинете у председателя ГТРК «Дагестан» Магомеда Халимбековича Гамидова. До сих пор помню его звонок в отдел кадров, слова поздравления и наставления. Шел сентябрь 1990 года…
Напряжение тех лет было очень высокое. За короткое время меня назначили старшим редактором, затем заведующим отделом республиканских известий. За нами был закреплен также «Утренний микрофон». В последующем я начал вести еще авторскую программу «Преодоление».
Утром шел на «летучку» с примерным перечнем тем на день, в течение дня происходили события, которые должны были находить свое отражение в выпусках Республиканских известий, а в авторских материалах высказано также отношение к этим событиям дагестанцев. Если собрать воедино интересные случаи из нашей практики, получится очень интересный материал по экстремальной журналистике. Тем не менее, удалось еще исколесить практически весь Дагестан.
Да, этому способствовала еще Программа социально-экономического развития горных районов Дагестана, принятая в девяностые годы Правительством Российской Федерации.
На Дагестанском радио развернулась интересная программа «Горы зовут». Мы посещали практически все горные районы, рассказывали слушателям, как программа реализовывается на местах.
Для меня особую ценность представляли беседы с горцами. Восхищала их мудрость, тонкий юмор, жизнелюбие. Помню, их беседы легли в основу одного из конкурсов, объявленного в начале 2000 –х годов ЮНЕСКО. Тот конкурс я выиграл, и эта награда — одна из ценных, если не самая дорогая, в копилке моих общественных наград.
И еще. Горцы, спускаясь на низменность, многое теряют из того нравственного арсенала узденей. На смену приходят тщеславие, иные пороки. В целом страдает дагестанское общество, которое лишается своих корней.
— У кого есть друзья, говорят, нет друга…
— Наверное, каждый период жизни накладывает свой отпечаток на тему дружбы. Мне кажется, самые искренние друзья – это друзья детства. Мы еще не испорчены, в мир смотрим доверчивым взглядом, не ожидая какого-либо подвоха. Утром можем поругаться, к вечеру помириться, забыв о причине ссоры.
Конечно, есть студенческие друзья. Один — два человека и армейские. Тоже немного. Наиболее плодотворным на дружбу был период работы на Дагестанском радио. У нас был свой круг общения, настоящей мужской дружбы. Мы условно его называли Госсовет. Жаль, троих уже нет с нами… Ушел из жизни Адильгерей, руководитель вещания на чеченском языке. Не стало Гамзата из лезгинской редакции. Покинул этот бренный мир Газимагомед из аварской редакции… Кажется, с каждым из них связывала целая эпоха. Личности яркие, рисковые. Вместе нам было комфортно… С нетерпением ждали очередной день заседания нашего Госсовета.
— Друг, если вдруг оказался у власти, бытует мнение, что он уже потерян…
Не думаю, что такой человек потерян для дружбы. Надо всегда стараться уважать его позицию. Я дружил и дружу с людьми, кто работал или работает в органах власти. И это нисколько не мешает нашей дружбе. Всегда надо придерживаться определенных норм, этикета. Иными словами, надо уважать его пространство, избегать тем, которые могут провоцировать друг друга на негативные последствия.
— Боже упаси меня от друзей, а от врагов я и сам спасусь. Не возникала такая внештатная ситуация в твоей жизни?
— Умар, твои вопросы, как на исповеди… Никогда ни к кому не навязывался в друзья. Наверное, и меня остерегались, понимая, каким ершистым я могу оказаться, когда под угрозой оказываются мои честь и достоинство. Бывали такие случаи, когда моя доброжелательность, природная мягкость, некоторая стеснительность оказывались в опасности, и это вынуждало меня прибегнуть к решительным, бескомпромиссным действиям, не оглядываясь на ранги, возрасты. Затем много раз перебирал в памяти такие ситуации, устраивая себе «допрос с пристрастием». Конечно, каждый раз это стоило мне нескольких седых волос, хотя внутренний голос как будто говорил: «Межмединович, хватит изматывать себя. Ты был прав, закрой эту тему!».
— Как ни печально, но когда уже за плечами определенная жизнь и годы, число друзей не увеличивается. И все потери, к сожалению, безвозвратны…
— К сожалению, это так. Выше я говорил о нашем Госсовете на Дагестанском радио.
Для меня исключительно близким человеком был покойный ныне Гамзат Магомедович Гамзатов, председатель ОП республики. Мы работали с ним в трех составах Общественной палаты. С третьего по пятый включительно. И вот на одном мероприятии (это было вне работы), где собралось много народу, он подошел ко мне и, обращаясь к собравшимся, сказал буквально следующее: «В мои годы трудно уже искать и находить друзей. Но я его нашел. Хочу вам представить его – Алюсет Межмединович Азизханов».
Он мог позвонить мне в любое время суток, чтобы поделиться новыми идеями, мыслями, которые на следующий день мы должны были еще проработать. Признаюсь, не всегда соглашался с Гамзатом Магомедовичем. Масштаб его личности, видение им глубины проблем меня просто поражали! Не ошибусь, если скажу: он мне был дорог как близкий родственник.
— А теперь о врагах. Ведь по их наличию (зачастую, по их величию) судят о нас в обществе и в кругу наших друзей. Самый опасный враг, говорят, отсутствие врага…
— Никого врагом своим не считал. И не считаю. Хотя гадостей мне сделали немало. Как говорится, Бог им судья.
— Подводя черту, что бы ты сказал нынешнему поколению, не в порядке назидания, а с высоты прожитых лет, как пожелание?
— Даже не знаю. Иногда мне кажется, «высоту прожитых лет», как ты мудро выразился, я достиг, карабкаясь без опоры на эту самую мудрость, совершая кучу ошибок, срываясь зачастую вниз, получая серьезные травмы… А мудрость смотрела на меня со стороны, видать, весело смеялась. Но я вновь вставал и шел наверх, радуясь тем вершинам, о которых мечтал в детстве, и их открытие откладывал на потом, на взрослую жизнь. Что посоветовать? Бояться не нужно. Мужчина должен бояться только отца своего и Всевышнего. Или наоборот? Сперва Всевышнего, а потом отца? И идти вперед. Пусть временами будешь срываться вниз. Главное, суметь подняться и продолжить путь. И это зачтется вне зависимости от достигнутых вершин! Я в этом совершенно уверен!
— Если, можно, пару слов о нашей газете (содержание, верстка, дизайн, рубрики, пожелания).
— Насколько знаю, «нийсо» в переводе с чеченского на русский язык означает «равенство» и «справедливость». Не может быть справедливости без равенства. Как не может быть равенства без справедливости. Похоже, это как два крыла, поднимающие в полет.
В предыдущем номере видел публикацию и фотографию Адильгерея. Конечно, нахлынули воспоминания…Пусть и не по теме будет ответ. Нас связывала еще большая профессиональная дружба. . Да и кабинеты наши были рядом. Вообще, очень многое меня связывает с чеченцами. С ними служил, учился, работал. В свое время, и говорю об этом с большой теплотой, мне доводилось организовать детские лагеря на побережье Каспийского моря в Карабудахкентском районе для детей из истерзанной войной Чеченской Республики. Это был замечательный отдых для детворы. Об этом можно многое писать и эти воспоминания до сих пор греют сердце. Ряд миротворческих мероприятий с участием представителей органов власти и институтов гражданского общества двух соседних республик: Чечни и Дагестана были традиционными.
Газете желаю новых высот. Замечательно, когда печатное издание возглавляет еще талантливый поэт. Мира и добра всем читателям «Нийсо», а коллективу — творческих успехов!
С искренним уважением Умар Якиев, журналист