В далекие-далекие времена мудрец сказал: «Бесконечно долго можно смотреть на две вещи: на горящий огонь и текущую воду». Если взять во внимание, что водоснабжение в жилище человека появилось не так давно, то огонь сопровождал его со времен пещерных убежищ. Со временем люди придумали для огня множество приспособлений. В этом длинном ряду, пожалуй, самым изящным и роскошным был и остается – камин.
Именно помня об этом, в начале своей профессиональной журналистской деятельности, под рубрикой «Двое у камина», я вел беседы со своими визави на самые животрепещущие темы нашего Бытия. В начале в «Халкъан Аз» (предшественница нынешней РОПГ «Нийсо»), а затем в другом издании — «Своя газета». Издавали мы ее с ныне покойным Вахарсултаном–хаджи Исмаиловым и журналистом Камилем Хункеровым.
Надо отметить, что интервью эти воспринимались с большим интересом и живо обсуждались. Значит, их читали, если были критика и отзывы.
Мысль возобновить свою рубрику меня никогда не покидала. Жаль! Катастрофически не хватает времени. С кем говорить, конечно, есть.
Теперь, в порядке информации, о самих каминах. Впервые они, говорят, как и многое другое, появились в Риме. Как сейчас принято считать, что все производится в Китае и, естественно, привозится оттуда.
В Россию камин, как и многое другое, привез Петр 1. И не каждый имел право иметь его у себя в доме. Такое разрешение давалось самим Императором боярам и дворянам, т.е. знатным и состоятельным в обществе людям полагалась такая роскошь.
Как ни парадоксально, но дальнейшему развитию каминов помешала ВОР – Великая Октябрьская революция (?!) 1917 года. Камины, в отличие от печей, большевиками были признаны предметом буржуазной роскоши и подлежали сохранению лишь в качестве элемента памятников архитектуры.
Сейчас, правда, все это уже в прошлом. Считаю вполне необходимым вернуть на страницы нашей газеты свое детище — рубрику «Двое у камина».
И, что самое удивительное, говорить мы будем обо всем, кроме политики. И еще. Вопросы преднамеренно остаются одни и те же, чтобы читатель имел возможность разузнать мнение самых разных людей на поднимаемые проблемы о жизни и ее сути.
Сегодня мы беседуем с главным редактором литературного журнала «День и ночь» (Красноярск), писательницей, переводчицей, публицистом и педагогом Мариной Олеговной Саввиных.
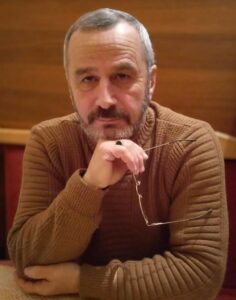
 — Итак…. Все мы родом из детства…
— Итак…. Все мы родом из детства…
— Родилась я в простой советской семье — в середине 50-х годов прошлого века. Отец инженер-конструктор, мать фельдшер. Мы с братом, который на пять лет меня младше, только уже взрослыми узнали, что по отцовской линии происходим от одной из ветвей старинного сибирского купеческого рода.
Её основатель Андрей Андреевич Саввиных был поистине выдающимся человеком. Откуда его предки прибыли в Енисейскую губернию, доподлинно неизвестно. Факт, что уже в возрасте двенадцати лет Андрей был настолько грамотным, а это редкость в ту пору была среди простолюдинов, что служил писарем в конторе золотопромышленника. Постепенно освоил тонкости предпринимательской деятельности в этой прибыльной сфере, и совсем ещё молодым человеком столь многого добился, что вскоре стал одним из самых успешных золотопромышленников чуть ли не имперского уровня. При этом он очень много сделал для края, как благотворитель и меценат. Жаль, умер рано — ещё до революции, в 1911-м году…
Почему нам с братом не рассказывали о нём так долго? Потому что в нашей стране до известного момента гордиться своими богатыми и успешными дореволюционными родственниками было не только не принято, но порою даже и опасно.
Дед, Михаил Ильич, служил на железной дороге. Когда он умер, мне едва исполнилось два года, поэтому я его совсем не помню, но родные рассказывали о нём, как о чрезвычайно образованном и начитанном человеке, хотя от былого «величия» семейства в ту пору уже не осталось и следа.
Родители бабушки, Аврелии Конрадовны, в начале ХХ века перебрались в Сибирь из Польши — Келецкого воеводства. Говорят, бежали от преследования за какую-то революционную деятельность. Куда ещё бежать от жандармов, как не в места каторги и ссылки?.. (смеется!)
Моей будущей бабушке было тогда двенадцать лет. Позднее здесь, на маленькой станции Тинская, юная Аврелия познакомилась с моим будущим дедом. Здесь один за другим появились на свет их дети. Мой папа — самый младший. Бабушку я хорошо помню. Она всегда казалась мне аристократкой – подтянутая, стройная, аккуратная, всегда со вкусом одетая. В молодости, судя по фотографиям, была просто красавицей.
До самой смерти свободно говорила и писала по-польски, вела дневник на этом же языке. У отца, кстати, тоже были прекрасные способности к языкам — он владел польским и немецким. У нас дома была приличная библиотека — тоже не только на русском, но и на польском и немецком. Папа был страстным читателем и, хотя нигде, кроме средней школы, специально не учился русскому языку, обладал абсолютной грамотностью, просто на уровне инстинкта.
Видимо, это и нам с братом передалось, и моим детям, особенно сыну, младшему. Как и музыкальность. Отец никогда музыке не учился, но сносно играл на мандолине и аккордеоне. Меня отдали учиться на фортепиано довольно известной в Красноярске преподавательнице, но обучение я не закончила, хотя потом очень долго неплохо музицировала. А сын у меня прекрасный гитарист, хотя тоже не профессионал. Так что, как видите, с предками все мы тесно связаны. Ничто не исчезает, не пропадает даром.
Мама моя родом из центральной России, из-под города Владимира. Дедушка работал на военном заводе в райцентре, был человеком строгим, партийным, за оборону Москвы в 1941-м году (он был тогда в ополчении) имел медали. Бабушка всю жизнь была домохозяйкой.
Жили они в очаровательной деревне на реке Клязьме, и нас с братом, пока мы были школьниками, каждое лето отправляли туда на каникулы — буквально с начала июня до конца августа. С этими дивными местами связано множество моих детских воспоминаний.
Кстати говоря, мы с двоюродной сестрёнкой Наташей, моей ровесницей, приобщались там не только к прелести деревенской природы, но к насущным сельским занятиям — ухаживали за огородом, стирали с бабушкой бельё (в те времена это был действительно нелёгкий труд — стиральной машины не было, грели воду, стирали руками в корытах на специальных рифлёных досках, потом складывали постиранное и отжатое руками бельё в короба с верёвками, взваливали эти короба себе на спину и тащили полоскать на речку… потом тем же ходом обратно), мыли полы и окна… да мало ли!
Кажется, никто с нашим малолетством в деревне тогда особо не считался. Есть силёнка помогать — делай. Нам даже в голову не приходило отказываться. И это тоже буквально въелось в сознание, стало инстинктом. Любой труд — если это честный труд — оправдан и благороден. И исполнять его надо с полной отдачей сил. Если что-то делаешь, то делай лучше всех! Наверное, смешно звучит, но это у нас в крови.
Что ещё о детстве? Училась в обычной городской школе. Всегда хорошо, с удовольствием. Школа находилась в рабочем районе, славном своей криминальной репутацией. Не могу сказать, что школьные годы, в отличие от институтских, как-то особенно повлияли на меня. Когда я пошла в первый класс, то уже свободно писала и читала. И, поскольку в гуманитарной области шла всегда несколько впереди своего класса, то в этой сфере все десять лет фактически занималась самообразованием. Без всякого принуждения. Фанатично. Сначала прочитала всё, что было дома. Потом «распотрошила» районную библиотеку. А потом закончила школу почти полностью на отлично — с тремя четвёрками по математике, физике и физкультуре — и поступила в педагогический институт на факультет русского языка и литературы.
— Да и как не любить эту тихую гладь,
Ведь на этой земле родила меня мать!
— Родилась, всю жизнь прожила и до сих пор живу в Красноярске, крупнейшем городе Восточной Сибири, одном из крупнейших в России. Горожанка до мозга костей, несмотря на свои детские трудовые опыты в деревне на каникулах. С «тихой гладью» Красноярск вряд ли можно сравнить. Тяжёлая промышленность. Постоянные проблемы с экологией.
У нас и сейчас время от времени объявляют режим НПУ — неблагоприятных погодных условий. Это когда над городом — он расположен в долине реки Енисей, окружён холмами, отрогами Восточного Саяна — в безветренную погоду скапливаются газообразные промышленные отходы и висит сизая удушливая дымка.
Тем не менее, красноярцы очень любят свой город. У него славная история, поражающие первозданной красотой окрестности.
Как-то у меня гостила моя дорогая подруга Миясат, поэт и общественный деятель из Махачкалы, — она удивлялась горным пейзажам Красноярска, не ожидала, что такие горы увидит здесь. Красноярск — Красный Яр. Берега Енисея, особенно левый, состоят из глинистых пород красноватого цвета. Видимо, отсюда и название. А, может, потому так назвали, что очень уж красивое место нашёл воевода Андрей Дубенский, в 1628 году основавший здесь острог.
Енисей… Когда я впервые увидела Терек во Владикавказе, он показался мне тихой маленькой речушкой. Это было засушливым летом, Терек обмелел, а я не ожидала, что он такой, что это о нём написано «Терек воет, дик и грозен…».
Позднее, конечно, мне и Терек довелось увидеть во всей красе.
Но — Енисей! Даже в Красноярске, ближе к своему верхнему течению, он грандиозен, что уж говорить про низовья! Стоишь на пароме посреди реки — и не видишь берегов, ни слева, ни справа. Вот какая река! Река-море!
Такие и мы, сибиряки, наверное… Величайшая река мира вспоила нас. Великая тайга со всеми её тайнами и опасностями вскормила и защитила нас. Поколения и поколения самых разных народов, живущих здесь веками бок о бок, превратили нас, пожалуй, в самых чуждых любому нацизму людей на планете. Недаром мой добрый друг, чеченец Иса Айтукаев, называет Красноярский край «общежитием народов».
— Жизнь — не те дни, что прошли, а те, что запомнились…
— Моя — уже достаточно просторная – жизнь всегда была полна событий. Может быть, в молодости чуть меньше, чем мне тогда хотелось. Мне были дарованы встречи с интереснейшими людьми. С Виктором Петровичем Астафьевым судьба свела меня совершенно случайно на презентации сборника «Великодушная семёрка» в 94-м году.
Я была одним из авторов этого сборника и читала что-то своё за общим длинным столом в офисе издательства «Гротеск». Моё место за этим столом — совершенно случайно — оказалось рядом с Виктором Петровичем. Он внимательно слушал. Похвалил даже. Прошло несколько дней. И вдруг — поздно вечером — у меня дома раздаётся телефонный звонок. Снимаю трубку — и ноги у меня подкашиваются: Астафьев! Разговор был очень коротким. Виктор Петрович спросил, не чувствую ли я, что мне пора вступить в Союз писателей? — Виктор Петрович, разве я… уже готова? Разве достойна? — Пиши заявление. Рекомендацию дам.
Так что рекомендацию в Союз писателей мне дал Астафьев. И, видимо, что-то в моих скромных пробах пера задело его, потому что эта рекомендация позднее вошла в один из томов его 15-томного собрания сочинений и стала предисловием к моей первой отдельной книжке. Она называется «Фамильное серебро», вышла в свет в 95-м году, а за рукопись этой книги мне была присвоена самая первая премия Фонда им. В.П. Астафьева. В 2024-м году Фонд отметил свой 30-летний юбилей.
Вместе с выдающимся педагогом, одним из авторов педагогической концепции «Школа диалога культур», Сергеем Кургановым при поддержке известного красноярского писателя Романа Солнцева и В.П. Астафьева мы придумали и открыли в Красноярске уникальный Литературный лицей, директором которого я была 15 лет. Наша жизнь с Лицеем — просто фейерверк событий, о каждом из которых можно рассказывать бесконечно. Я несколько книг написала об этом. Их можно легко найти в Интернете.
Не могу не вспомнить об одной очень важной для меня встрече. В 2015 году Миясат Шейховна Муслимова познакомила меня в Махачкале с поэтическим гением Дагестана — Адалло. Два вечера подряд мы с Миясат приходили к нему и беседовали, прежде всего, о литературе, о поэзии.
Беседы с Адалло развернули меня к Исламу. Поэт, собственно, открыл для меня Коран. Разумеется, это нисколько не поколебало меня в моём Православии, но я почувствовала острый интерес к священной Книге, которая так много значит для Адалло. Больше мне с Адалло не довелось увидеться — спустя два месяца после нашей встречи он умер. Но у меня осталась книга его аварских стихов с подстрочниками. Я много перевела оттуда на русский язык и с наслаждением продолжаю эту работу. Мечтаю издать книгу этих «переводов-подражаний». Она будет называться «Сердце-алмаз».
— Подруга дней моих суровых…
— Подруг мне всегда хватало. Но, поскольку мы беседуем в Дагестане, расскажу о моей Миясат. Мы познакомились с ней в Москве. Кажется, это был 2010-й. Мимолётная встреча в кабинете секретаря Союза российских писателей. Но я её запомнила. Мия излучала такое сокрушительное обаяние, такую тёплую энергию, что не запомнить было невозможно. Чуть позже мой журнал пригласили к участию на Волошинском фестивале в Крыму.
Нам было поручено предложить номинацию и рассмотреть произведения участников, которые поступят на конкурс в этой номинации. И вот: вижу среди текстов стихи Миясат. Она — блестящий, изумительный поэт! Особенно ей удаются верлибры с непередаваемой кавказской интонацией, богатством образов, которых нет больше ни у кого, тончайшей стилистикой… В общем, я сразу «присудила» ей первое место и отметила ещё двоих очень хороших, на мой взгляд, поэтов.
Каково же было моё удивление, когда уже в Крыму, на фестивале, организаторы, проигнорировав наше мнение, ничего не дали нашим номинантам! Я страшно возмутилась и попыталась это дело оспорить, но увы! Не получилось. Тогда я, на свой страх и риск, во время вручения наград взяла слово и публично «озвучила» выбор красноярского журнала «День и ночь», вручила НАШИ дипломы и НАШИ награды!
Так мы с Миясат и подружились — эти несколько дней в Крыму были почти неразлучны. И до сих пор почти неразлучны. Приезжаем друг к другу в гости. Конечно, чаще я к ней. А она однажды приехала в Красноярск, когда у нас ударили лютейшие — даже для Сибири — морозы, -40 и ниже. «Оденься тепло!» — убеждала я её по телефону. Когда она приехала, и я увидела, насколько «тепло» она оделась, то чуть не заплакала. Хорошо, что у меня всегда дома есть запасная шуба, валенки и рукавицы. А Мия потом говорила: «Теперь я поняла, что такое мороз. Это колокольчики во лбу».
***
Коли не задубеем на этом чумном морозе,
Встретимся вскоре… ангел, прими самолёт
К сведенью … пусть металл избегнет коррозий,
И серебристые крылья не тронет лёд.
Нет ничего надёжней в подлунном мире,
Как вопреки прогнозам и мрачной лжи, —
Ножкам твоим коснуться большой Сибири,
Сердцу коснуться — её мировой души.
— Без хороших отцов – нет хорошего воспитания…
— Я уже много здесь сказала об отце. Папа был сложный человек. Но он не просто дал мне жизнь, он дал устроение моему разуму. Без папиной библиотеки, без его насмешливого внимания к моим опытам многое в моей жизни сложилось бы иначе. Думаю, и брат мой, Евгений, если его спросить, скажет то же.
— Учитель мой добрый и милый…
— «Добрых» и «милых» учителей у меня, к сожалению, не было. Ни в школе, ни в ВУЗ-е. Но серьёзные жизненные уроки были преподаны, да. Человек развивается, сопротивляясь. А к сопротивлению жизненным вызовам надо быть готовым. Этому строгие наставники меня и учили. Насколько выучили, — проверяю на себе ежедневно.
— И надо спешить жить… (Надо ли, по сути, или…лучше идти по течению…).
— В молодости каждый уверен, что надо… Впрочем, может быть, лучше ответить стихами?
***
Бег времени — не ужас, а тоска:
Не страх берёт, а только сердце ноет,
И прав сказавший — после сорока,
Как всуе ни лукавствуй, жить не стоит.
Но ты живёшь и смотришь облака,
И чуешь небо тем бессмертным нюхом,
Что у младенца и у старика
Один и тот же, если верить слухам…
Живёшь — судьбе играешь на трубе,
Всё чаще замечая с раздраженьем,
Что ты уже не равен сам себе,
Тем более зеркальным отраженьям,
Что там, где ты перешагнул черту,
Другая жизнь рванулась размножаться,
А ты висишь — стекляшкой на свету:
Прозрачное не может отражаться,
Как, видимо, и самовыражаться…
Признаем же дерзания тщету
И обернёмся в пламенный восток,
Что близится всё явственней и шире,
Как в свиток забытья… Почием в мире!
Так спит зерно, родившее цветок.
Это написано в 96-м, почти тридцать лет назад. И «пламенный восток» приблизился, и «другая жизнь» уже смотрит на меня сверху вниз… И жизнь «после сорока», оказывается, только начинается всерьёз. Так что всему своё время.
— Отчего тоскуешь? Почему грустишь? (оглядываясь назад на прошлое…)
— Я благодарна Всевышнему — кажется, так о Том, Кто нас держит и направляет, уместно сказать в свете любого вероучения — за все пути, которым Он вёл меня. И если и грущу о чём-то, то только о мире, которого всем нам так теперь не хватает!
— Подводя черту, что бы ты (у нас, у чеченцев, нет обращения на «вы») сказала нынешнему поколению? Не в порядке назидания, а с высоты прожитых лет, как пожелание…
— Отвечая, на этот вопрос, сошлюсь на дорогого моему сердцу Адалло (это мой вольный перевод его стихотворения):
***
«Нет за полночь огня – и над тобой
Уже не будет солнечного света…»
Смотри, не верь тому, кто скажет это.
Так говорит о свете лишь слепой.
«Весь мир объят дремотной тишиной –
И больше не услышишь ты ни звука».
Не верь! Пустопорожняя наука!
Так говорит о музыке – глухой.
«Тоска тебя разбила, как сосуд…
Не стоит жизнь твоей заботы вечной».
Не верь в несправедливый этот суд!
Так рассуждает только бессердечный!
— Я вам желаю…
— Посмотрела несколько свежих выпусков на сайте «Нийсо» в Интернете. Вы молодцы! У вас есть и объективность, и теплота, и желание наладить диалог между народами и поколениями.
Желаю вам самых лучших корреспондентов и читателей! Теперь буду искать и читать каждый новый выпуск! Ведь это так интересно! У вас есть, что читать и это радует.
Уважаемый Умар Абдулнасирович, с удовольствием посидела с тобой «У камина». Проект твой заслуживает уважения. Есть возможность узнать людей поближе. Еще раз спасибо и творческих успехов тебе и коллегам по перу! И, конечно же, сибирского здоровья всем нам. Мира и согласия!
Умар Якиев, журналист



