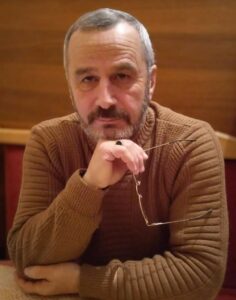В далекие-далекие времена мудрец сказал: «Бесконечно долго можно смотреть на две вещи: на горящий огонь и текущую воду». Если взять во внимание, что водоснабжение в жилище человека появилось не так давно, то огонь сопровождал его со времен пещерных убежищ. Со временем люди придумали для огня множество приспособлений. В этом длинном ряду, пожалуй, самым изящным и роскошным был и остается – камин.
Именно помня об этом, в начале своей профессиональной журналистской деятельности, под рубрикой «Двое у камина», я вел беседы со своими визави на самые животрепещущие темы нашего Бытия. В начале в «Халкъан Аз» (предшественница нынешней РОПГ «Нийсо»), а затем в другом издании — «Своя газета». Издавали мы ее с ныне покойным Вахарсултаном–хаджи Исмаиловым и журналистом Камилем Хункеровым.
Надо отметить, что интервью эти воспринимались с большим интересом и живо обсуждались. Значит, их читали, если были критика и отзывы.
Мысль возобновить свою рубрику меня никогда не покидала. Жаль! Катастрофически не хватает времени. С кем говорить, конечно, есть.
Теперь, в порядке информации, о самих каминах. Впервые они, говорят, как и многое другое, появились в Риме. Как сейчас принято считать, что все производится в Китае и, естественно, привозится оттуда.
В Россию камин, как и многое другое, привез Петр 1. И не каждый имел право иметь его у себя в доме. Такое разрешение давалось самим Императором боярам и дворянам, т.е. знатным и состоятельным в обществе людям полагалась такая роскошь.
Как ни парадоксально, но дальнейшему развитию каминов помешала ВОР – Великая Октябрьская революция (?!) 1917 года. Камины, в отличие от печей, большевиками были признаны предметом буржуазной роскоши и подлежали сохранению лишь в качестве элемента памятников архитектуры.
Сейчас, правда, все это уже в прошлом. Считаю вполне необходимым вернуть на страницы нашей газеты свое детище — рубрику «Двое у камина».
И, что самое удивительное, говорить мы будем обо всем, кроме политики. И еще. Вопросы преднамеренно остаются одни и те же, чтобы читатель имел возможность разузнать мнение самых разных людей на поднимаемые проблемы о жизни и ее сути.
Сегодня мы беседуем с поэтессой Миасат Шейховной Муслимовой: ученым, общественным деятелем Республика Дагестан. Пишет на русском языке.
— Итак…. Все мы родом из детства… (О семье: родителях, братьях, сестрах…).
— Родилась я в селении Убра Лакского района в 1960 году. Папа чабан, мама доярка. Нас трое детей: старшая сестра, работала на заводе, когда они еще были. Младшего брата уже нет.
— Да и как не любить эту тихую гладь,
Ведь на этой земле родила меня мать! (О родном селе, городе…).
— До шести лет жили в селе. Я его плохо помню и не любила, потому что по маминым рассказам знала, что жизнь у нее была тяжелая. У папы был тяжелый характер, она с ним разошлась и уехала, забрав нас, детей. Только спустя более чем тридцать лет через мои стихи вдруг заговорила любовь к родному селу, ее скудной земле и родным камням. Мы сначала переехали в Хасавюрт, а через три года в Махачкалу. Очень любила Хасавюрт, считала его родным городом и долго не могла забыть. Спустя много лет приехала в этот город, гуляла по его площади и ближайшим улицам, где росла, училась в школе №1.
— Жизнь — не те дни, что прошли, а те, что запомнились… (О воспоминаниях, интересных, забавных случаях. Школа. ВУЗ…).
— В Махачкале я училась в школе №6, которую закрыли в 1975 году, всех перевели в школу №37. Эти годы запомнились счастливой пионерской жизнью: походы, сборы металлолома, уроки, а главное, я записалась во все библиотеки, какие нашла, и погрузилась в запойное чтение — это были счастливые годы.
Мы были уличные дети: мама целый день на работе, а мы на море стайкой идем без разрешения, до полночи нас не загонишь домой: игры в «казаков-разбойников», в «жмурки», в «классики». Мячи, прыгалки…
Потом университет и упоение учебой, чтением книг, но уже системным. Открывались новые горизонты благодаря потрясающим педагогам: Бройтману Самсону Наумовичу, Мегаевой Лире Ивановне, Ахмедовой Уме Садыковне, Ханмурзаеву Камилю Гамидовичу, Сивриди Георгию Николаевичу… Когда я поступила, почему-то вдруг перестала особо заниматься, все время отдавая только литературе. Первый экзамен на 1 курсе мы сдавали Георгию Николаевичу. Я фонетику с трудом осилила на «три»: не любила и не учила. Но он, пораженный моим ответом, поставил мне «четверку», сказав при этом: «Вы лучше всех проявили себя на подкурсах, я многого от вас жду и поставлю все-таки вам высокий балл, надеясь, что вы пересмотрите свое отношение к учебе».
Этот поступок истинного педагога полностью изменил мои взгляды, я испытала такое чувство стыда, что потом училась только на «отлично» и окончила филологический факультет с красным дипломом.
— Подруга дней моих суровых… (Мама, близкая подруга, соседка, коллега…).
— Для меня большое значение имела в жизни дружба. Я тосковала по ней, мне казалось, что жизнь без друзей, без подруг пуста и одинока. В разное время были разные подруги, я им всем благодарна, потому что общение с ними мне дало многое: и возможность расширить свой кругозор (доступ к домашней библиотеке), и возможность преодолеть однообразие дней. И, самое главное, сберечь домашнее тепло в семье, в кругу друзей и подруг…
Но самое сильное влияние на меня оказала дружба с однокурсницей Светланой Сутуевой, матерью известного сейчас в республике скрипача Марио-Али Дюранда Сутуева, в ком сошлись лакская и латиноамериканская кровь. Света писала изумительные стихи, занималась переводами, играла на пианино, пела, была очень начитана и эрудированна. Она несла одухотворенность, изящество, тонкое чувство прекрасного… Мне всегда хотелось быть лучше, чем я есть. Бывало, я, страдала от своего несовершенства, а дружба мне очень помогала формировать себя.
— Без хороших отцов – нет хорошего воспитания…(О роли отца в семье…).
— Согласна: роль отцов очень велика в жизни детей. Я почти не помню отца. Мои родители рано расстались, а вспыльчивый и неукротимый характер моего отца, с его обостренным чувством справедливости, приводил его к ошибкам или поступкам, за которые пришлось дорого расплачиваться. К огромному сожалению, он оказался в местах лишения свободы. У него была уже другая семья, к тому же, жил он по-прежнему в селе, не расставался с черкеской, кинжалом и конем. Люди говорили о его требовательности, жесткости, мужестве, отчаянной лихости. Но он был неудобным человеком, наверное, потому что с таким характером трудно строить отношения.
Мне жаль, что я его так и не узнала. Он скончался в тюрьме, когда ему осталось отбыть полгода из пятнадцати лет. Думали, что кровная месть, оказалось, несправедливое осуждение. Но это непростая история, очень похожая на сюжет «Хроники объявленной смерти» Маркеса.
— Учитель мой добрый и милый… ( О школьном учителе, наставнике…).
— Мой любимый учитель в школе — учительница русского языка и литературы Якубова Мария Алексеевна. Я уже до школы с пяти лет бегло читала газеты, в школу взяли с шести лет из-за этого, любила читать, но Мария Алексеевна развила мою любовь к литературе, всегда поддерживала меня. В четвертом классе я уже писала повести, сочинения в стихах. Ее похвала окрыляла, и потом я решила стать учителем русского языка и литературы, как любимая учительница. Что и сделала.
А в вузе, конечно, это был мой научный руководитель, великий педагог и прекрасный ученый -литературовед Бройтман Самсон Наумович, который вырастил несколько поколений выдающихся филологов.
Мы, дагестанцы, в долгу перед ним. Даже перед его семьей. Его жена Сталина Андреевна – такое же культовое имя для художников, как и Самсон Наумович для филологов. Скромные, почти всю жизнь прожившие в студенческом общежитии, они столько любви и ума вложили в нас… Равных ему людей я не встречала в своей жизни. Он ставил мышление, как оперному певцу ставят голос. Ему был дорог каждый студент из самого дальнего аула. Он ученый с мировым именем, потом уехал работать по приглашению в Польшу, в Москву… К сожалению, их уже нет среди нас… И так не хватает людей такого масштаба для нашей молодежи….
— И надо спешить жить… (Надо ли, по сути, или… лучше идти по течению…).
— По течению не люблю плыть и никому не советую. Не спешу жить, но всегда спешу сделать много дел, многое успеть – не конец жизни беру за точку отсчета, а просто необходимость дела.
— Отчего тоскуешь? Почему грустишь? (Оглядываясь назад на прошлое…).
— Жалею, что не учила разные языки. Жалею, что не так много сил вкладываю в учебу, хотя тогда казалось, что все делаю для этого. Жалею, что мало попадалось в жизни людей, которые задавали новую планку, более высокую. Жалею, что когда попадались, я стеснялась поддерживать общение из-за ощущения неуверенности в себе. Жалею, что не так уделяла внимание маме при жизни, как надо было бы, хотя тогда была уверена, что я делаю все, как надо… Жаль, что второго дубля у жизни нет…
— Подводя черту, что бы ты (у нас, у чеченцев, нет обращения на «вы») сказала нынешнему поколению? Не в порядке назидания, а с высоты прожитых лет, как пожелание…
— Я бы сказала, что от самого человека зависит почти все в этой жизни. Никогда не надо ссылаться на обстоятельства и окружение, ведь Бог дал человеку счастливую возможности лепить и творить самого себя, свою душу, свое отношение к жизни и к людям. Никогда не ставьте материальное во главу угла. Не упускайте время, но и не будьте нетерпеливы: у жизни свои законы и не надо подгонять ее под свои ожидания. Согласие, дружба, человеческое тепло важнее всех других ценностей. В этом моя глубокая убежденность…
— Я вам желаю… (Пару слов о нашей газете: верстка, содержание, рубрики. Пожелания творческому коллективу).
— Я вам желаю использовать возможности газеты для того, чтобы сеять добро между людьми и нашими народами. Сохраняйте свою человеческую теплую ноту в материалах, продолжайте рассказывать о простых людях, как вы это умеете хорошо делать.
Пусть газета остается интересным, умным и добрым собеседником для читателя, как и сейчас. Мне нравится ваша газета. Здоровья нам всем, а вам новых творческих успехов! Огромное спасибо за теплую и человеческую беседу «У камина»!
Умар Якиев, журналист